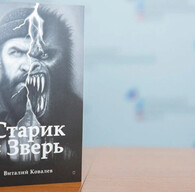О раскрытии темы реабилитации участников СВО в пьесе Глеба Боброва «Тень цикады» ЛуганскИнформЦентру рассказывает старший преподаватель кафедры теории и истории искусства Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова, театральный критик Ирина Шамсутдинова.
ЛИТЕРАТУРНАЯ ОСНОВА
Прочитав эту пьесу, я сделала вывод, что необходимо ознакомиться еще с литературой автора. Так как чувствуется свой особый стиль подачи материала, свой язык, через который, кстати говоря, не всегда легко пробираться, но есть своя интонация и заметна культура преподнесения литературного материала.
Здесь делаю небольшое отступление: что такое драма? Драма есть действие. И для того, чтобы пьеса состоялась на сцене, нужны две важные составляющие. Во-первых: пьеса должна соответствовать законам сцены, законам театрального действия. Во-вторых: действие будет только тогда, когда будет конфликт. Конфликт — двигатель действия. На первый взгляд — простая формула. Но без двух вышеперечисленных составляющих любой текст для сцены будет бессмыслен. Первый пункт не касается прозы, но будет касаться ее инсценировки.
ДРАМАТУРГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
Что я определила для себя, ознакомившись с этим драматургическим материалом.
Пункт первый. Здесь четко определены характеры действующих лиц, четко и обоснованно выстроена структура драматургического произведения и сохранена ее классическая композиция.
Если заглянуть в историю театра, в теорию драмы, то мы увидим, как развивалась драматургия, начиная от античной эпохи до нашего времени. Какая разная она была и в эпоху Средневековья, и Классицизма, и Возрождения и далее. Классическая композиционная структура пьесы такова: экспозиция — завязка конфликта — развитие действия — кульминация — развязка и финал. Потом в конце XIX века все немного изменилось. Появилось понятие «новой драмы», где конфликт стал не внешним, а внутренним. Где было очень много подтекстов и скрытых смыслов. Было очень много диалогов, слов, текста, но не было никакого экстраординарного действия.
Здесь я тоже вижу отголоски этой «новой драмы». Где, казалось бы, внешне ничего не происходит. Фабула проста: в реабилитационный центр приезжает фельдшер Бирюкова — центральный персонаж, она же отмечена первой в афише действующих лиц. Она проводит некоторое время с пациентами центра, потом уезжает. Но, проникая в глубину сюжета, понимаешь, что кроется за этой внешней простотой. Диалоги и монологи героев начинают, как клубок ниток, распутывать не столько сюжет, тогда бы это был жанр «детектив», а внутренний их мир, их противоречия.
И конфликт здесь не в приезде и отъезде персонажа, который помогает больным восстановиться физически. А в том, что приезд одного человека побуждает другого на душевные, внутренние изменения. Эти изменения всегда безумно сложны. Мучительнее от того, что герои не просто меняются, а, попадая в предлагаемые обстоятельства, говоря театральным языком, обстоятельства войны, герои пытаются восстановить не тела, а свои души.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА
Вот здесь второй пункт, на который надо сделать наибольший акцент. Это определение пространства. Реабилитационный центр становится миром, где исцеляются души. Невольно вспоминается великое произведение Данте Алигьери «Божественная комедия», состоящее из трех частей «Ад», «Чистилище» и «Рай». И герои пьесы, пройдя «ад», так как они — свидетели и участники военных событий, проходят в «чистилище». Их монологи — это исповеди, а действия по сжиганию, выбрасыванию в реку предметов и подобные — это даже не отказ от прошлого или намеренное «забывание», если так можно выразиться, ничего из памяти не выкинешь. Это возможность и право жить, открыв себе дорогу, право идти дальше, оставив прошлое лишь в памяти, но не в сердце.
Эти символы и метафоры наполняют пьесу огромным смыслом, психологическим и философским, даже религиозным.
РАССКРЫТИЕ ПЕРСОНАЖЕЙ
Пункт третий. Как уже отметила, очень точно раскрывается каждый персонаж. Причем, через диалоги мы узнаем истории о героях, а через монологи их внутреннее состояние. Особенно показателен диалог Леонида и Фельдшера, где она рассказывает о своей профессии. И мы понимаем, что экстренная медицина — это спасение «здесь и сейчас». Это и оправдывает ее характер и тон разговора: резкий, грубоватый, конкретный, жесткий.
И как театровед, я, конечно, где-то бы даже еще добавила монологи и больше всего поработала над монологом самой Бирюковой. Важно понять, почему она меняется, почему предлагает Леониду быть вместе.
Мы можем догадываться, но в театре это мы должны либо услышать, либо увидеть. В театре на этом все и выстраивается. Например, актер почесал голову, и мы думаем — зачем он это сделал. Он это сделал как актер, или это задача персонажа. И мы начинаем разгадывать. В прозе и в лирике есть позиция автора, которая выдает нам все чувства и мысли персонажей. А в драме автора как такого не видно; мы слышим его не напрямую, а через персонажей или через ремарки. Мы открываем мир персонажей через его слова и действия. Возвращаемся к тому, что драма — это действие.
Вот, например, в финале использован мелодраматический ход — поцелуй Леонида и Бирюковой. И звучит ремарка: «он сконфузился». А реакцию Бирюковой мы не видим. Хотя в тексте очень много точных ремарок, касающихся взглядов героев друг на друга, звуков, чувств и тому подобное. И тогда вопрос: а зачем этот поцелуй? Какую смысловую нагрузку он несет? Как автор легко сможет объяснить, и даже я, как читатель, покопавшись, смогу оправдать это действие. Но зрителю ответ нужен моментально. Там дальше пойдут уже другие события. Скорее всего, эти вопросы нужны при работе над сценическим воплощением, и работать по большей части над ними должен режиссер.
ЭФФЕКТ ФАНТАСМОГОРИИ
В завершение отмечу этот фантасмагорический эффект, точнее, прием, который решен в сценах с кошмарами Леонида и с появлением медсестры Юлии. В кошмарах героя мы, собственно, и обнаруживаем раненую душу, истерзанную, которая к финалу трансформируется, встает на путь исцеления.
Но вот для чего эти выходы медсестры? Задумалась я вначале… Да еще и со столь странными монологами, хотя очень «рецептурными». Но, возвращаясь к истории театра, вспоминаешь античный хор, который сначала являлся комментатором действия, а потом его роль снизошла до простого наблюдателя.
ЭПИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Юля — это, своего рода, тот самый древнегреческий хор. Только даже не античный, а скорее брехтовский. Бертольд Брехт в XX веке в своем «эпическом театре» использовал так называемые «зонги», которые исполнялись в виде интермедии или авторского комментария.
Как-то я нашла на просторах интернета такой комментарий по поводу брехтовской концепции. Слова не мои, поэтому включаю в кавычки: «Брехт использует в своей творческой практике „эффект отчуждения“, то есть художественный прием, назначение которого — показать явления жизни с необычной стороны, заставить по-иному посмотреть на них, критически оценить все происходящее на сцене. Главное, что не устраивало Брехта в классическом театре, — это то, что катарсис становился завершением драмы, происходит очищение аффектом. Таким образом, катарсис примиряет зрителя с жизнью, он сравнивал его действие с легким наркотиком. По мнению Брехта — это плохо, современный театр должен показывать нетерпимость существующего положения вещей, должен учить зрителя преодолевать мировой порядок. Именно для этого и нужен был „эффект отчуждения“. Зритель должен был преодолеть себя в герое, провести между ним и собой параллель, узнать себя в нем, но не погрузиться с головой, а увидеть его, и, следовательно, себя, со стороны. Герою ситуация, в которой он оказывается, может казаться непреодолимой, зритель же должен видеть выход и понимать, как с ней справиться. Он вводит, например, в пьесы сольные песни, так называемые „зонги“. Эти песни не всегда исполняются как бы „по ходу действия“, естественно вписываясь в то, что происходит на сцене. Напротив, они часто подчеркнуто выпадают из действия, прерывают и „отчуждают“ его, будучи исполняемы на авансцене и обращены непосредственно в зрительный зал. Брехт даже специально акцентирует этот момент ломки действия и переноса спектакля в другую плоскость».
Песни медсестры Юли — это некое отступление от основного действия, но в то же время — это будто живая душа, когда-то вырвавшаяся из тела одного из когда-то бывшего в этом реабилитационном центре. Это душа, которая не блуждает в потемках, а, наоборот, указывает свет, дает некое направление. А к финалу, конечно, освещает пусть исцелившихся героев.
Образ медсестры можно решить самыми разными способами, здесь огромное поле для интерпретации.
Это очень выигрышный сценический персонаж, который может и возвысить, и — где надо — снизить патетику.
СОЛНЦЕ ИСЦЕЛЕНИЯ
Возвращаясь к названию и закольцовывая свою мысль, отмечу, что неслучайно в названии употребляется слово «тень», а не просто «цикада». В этом и кроется смысл произведения: человек всегда имеет возможность исцелиться. Прежде всего, имеет право на душевное исцеление. Ведь, как мы знаем, тень всегда возникает в тот момент, когда появляется солнце.